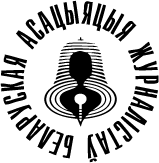Смотрите телевизор, и Вам будет счастье
Пропаганда, безусловно, важный фактор, но объяснять ею всё – значит выдавать желаемое за действительное.
.jpg)
В мае 1995 г. в Беларуси прошел первый конституционный референдум. Это был первый и последний доермошинский референдум, и потому к его результатам следует относиться серьезно. Сравните: на первом референдуме явка составила 64%, на втором – 84%.
Большинство от принявших участие во всенародном волеизъявлении избирателей проголосовало «ЗА» по всем предложенным вопросам. И только спустя годы стало понятно, что, голосуя «ЗА», белорусы голосовали «ПРОТИВ». Они голосовали «ПРОТИВ» смены цивилизационной идентичности.
Ожидать иного от «человека советского» было бы наивно. Выбор между российской цивилизацией в пользу цивилизации западноевропейской означал бы для него выбор в пользу личной ответственности за свою судьбу в условиях рыночной экономики.
Второй конституционный референдум в ноябре 1996 г. придал интересам «человека советского» (интересам «большинства») государственный статус, отказав при этом «меньшинству» в праве на существование.
Так расколотое белорусское общество стало единым народом, а глава государства – единоличным выразителем его интересов.
Для поддержания этого квазиединства потребовалось превратить государственные СМИ в орган тотальной пропаганды, основной задачей которого стало формирование жизнерадостной картины мира.

За два десятилетия подобных художеств картинки в телевизоре полностью разошлись с реальностью за окном. Сегодня они воспроизводятся государственными «художниками» слова и кадра на уровне условного рефлекса. Как тут не вспомнить пантомиму великого французского комика Марселя Марсо «В мастерской масок». В годы студенческой юности автору посчастливилось посмотреть ее вживую в минском Доме офицеров. Сегодня она доступна в ютубе. Сюжет пантомимы прост: мастер примеряет маски, и одна из них (веселая) приклеивается.
За примером из современной жизни далеко ходить не требуется. Цитирую фрагмент из статьи «Референдум. 20 лет спустя», позаимствованный у самой солидной отечественной газеты: «В 1995 году, отвечая на вопросы референдума, страна выбрала верный вектор. Смею утверждать, что сегодня Беларусь способна производить все то, что могут самые развитые страны Европы: Швейцария, Голландия, даже Германия. Только больше».
А я-то все никак не мог понять, почему покупательная способность моей пенсии после декабрьской девальвации так резко прибавила... Все дело в том, что родная промышленность по разнообразию и количеству товаров обогнала развитые страны Европы!
Рядовые граждане без своевременной подсказки о подобных достижениях белорусской экономической модели самостоятельно не догадались бы. Они в оценках семейной экономики привыкли идти от жизни. Поэтому, по данным НИСЭПИ, индекс материального положения (разность положительных и отрицательных ответов на вопрос: «Как изменилось Ваше личное материальное положение за последние три месяца?») снизился под влияния декабрьской девальвации с -17 до -38.
Однако на индексе ожидания (разность положительных и отрицательных ответов на вопрос: «Как изменится социально-экономическая ситуация в Беларуси в ближайшие годы?») девальвация никак не отразилась.
Вот что значит сила и слабость пропаганды. На уровне личного кошелька ее эффективность существенно отличается от эффективности на макроуровне.
После 15-и «тучных» лет удивляться такому расхождению не приходится. Но тот, кто еще не забыл годы брежневского застоя, помнит и беспомощность государственной пропаганды. Монополия государственных СМИ была близка к 100%. Ей противостояли лишь «вражеские голоса», расслышать которые из-за «глушилок» было не так-то просто. И, тем не менее, на любую порцию официального оптимизма народ уже через два-три дня отвечал анекдотом.
Устное народное творчество подпитывала энергия всенародного когнитивного диссонанса, который сформировался вследствие максимального расхождения двух реальностей: за окном и в черно-белом телевизоре марки «Горизонт».
Пропаганда, безусловно, важный фактор, но объяснять ею все – значит выдавать желаемое за действительное. Двадцать лет назад, в год первого конституционного референдума, белорусы не знали слова «интернет». Сегодня мировой паутиной с различной степенью регулярности пользуются более 60% белорусов. Однако на структуре белорусского электората (соотношении сторонников и противников авторитарного «батьки») это никак не отразилось.
Обратимся к таблице, позаимствованной на сайте НИСЭПИ. Даже среди респондентов, пользующихся интернетом ежедневно, почти половина (48%) одобряет присоединение Крыма к России. При движении вниз по первой колонке уровень одобрения возрастает. Реже интернетом пользуются пожилые люди, с низким уровнем образования, проживающие в сельской местности. Т.е. социальные группы в наибольшей степени зависимые от государства. И тем не менее…
Регулярность пользования интернетом в зависимости от ответа на вопрос: «Как Вы оцениваете присоединение Крыма к России?» (в процентах от числа опрошенных)
|
|
Отношение к «Крымнашу» |
|
|
Одобряют* |
Осуждают** |
|
|
Пользуетесь ли Вы Интернетом? |
||
|
Да, ежедневно |
48 |
31 |
|
Да, несколько раз в неделю |
54 |
26 |
|
Да, несколько раз в месяц |
64 |
16 |
|
Да, несколько раз в году |
72 |
22 |
|
Нет |
72 |
12 |
|
Не знаю, что это такое |
50 |
12 |
* это возвращение России русских земель, восстановление исторической справедливости
** это империалистический захват, оккупация
Вопреки надеждам правительства, кризис, в который входит сегодня белорусская экономика, не рассосется ни через год, ни через два. Рост доходов населения остался в прошлом, но общественное мнение не желает смиряться с новой реальностью, что, в частности, и проявляется в стабильности индекса ожидания.
Как долго это продолжится? Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет, но одним из факторов массового прозрения станет падение рейтинга доверия государственных СМИ. Но рост доверия СМИ негосударственных при этом никто не гарантирует.

С. Николюк, эксперт НИСЭПИ, автор материала. Фото naviny.by